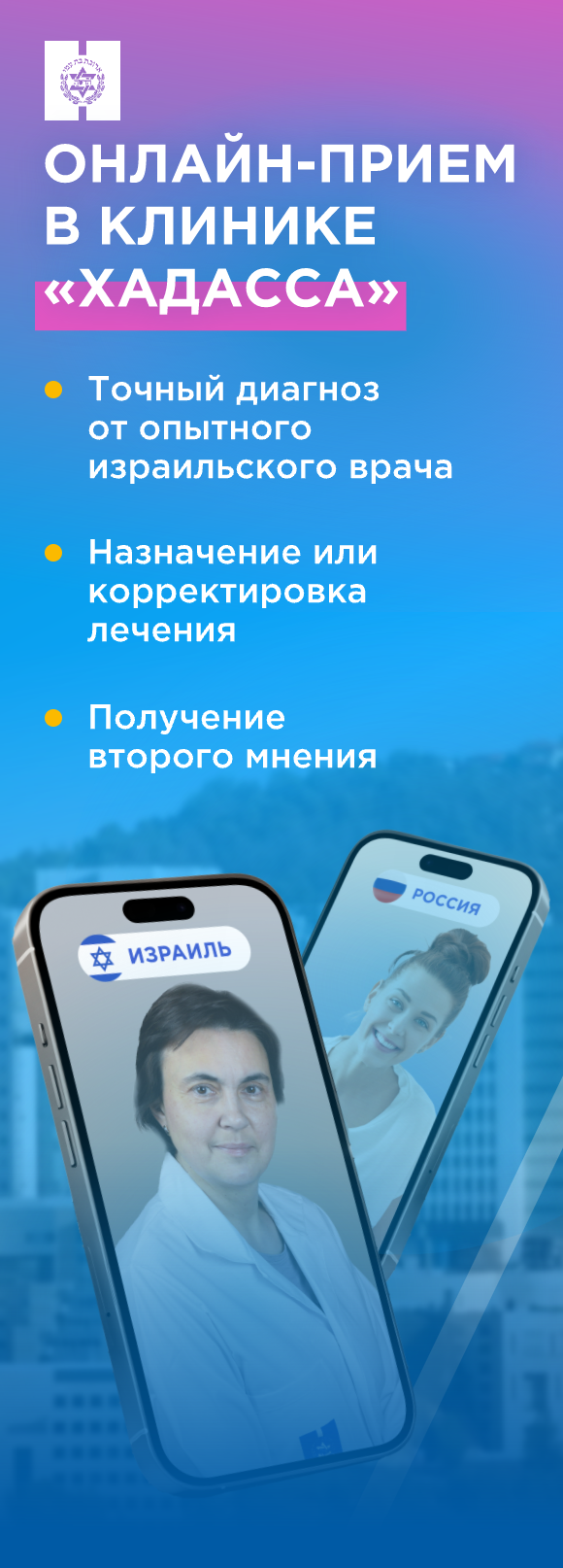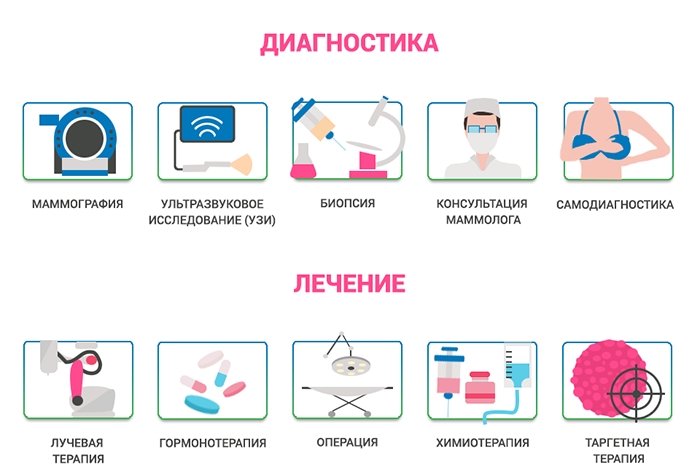Профессор Аллен Серраф: Результаты хирургического лечения исключительно высокие, зачастую превосходящие даже самые оптимистичные ожидания
Больница «Хадасса» в Иерусалиме — один из ведущих мировых центров по лечению врожденных пороков сердца у детей. О передовых подходах, уникальных результатах и философии своей работы рассказывает профессор Аллен Серраф, заведующий отделением детской кардиохирургии.
— Профессор, не могли бы Вы немного рассказать о себе? Сколько времени Вы работаете хирургом? В какой области детской хирургии Вы специализируетесь? Расскажите, как развивалась Ваша профессиональная карьера в кардиохирурги
— Доброе утро. Меня зовут Аллен Серраф. Я заведую отделением детской кардиохирургии в больнице «Хадасса». Свою карьеру я начал почти 40 лет назад. Окончил медицинский университет Париж XII, прошёл интернатуру и специализацию по кардиохирургии и детской кардиохирургии в Париже, а также стажировался в Детской больнице Бостона, США.
Вернувшись во Францию, я присоединился к команде госпиталя Мари-Ланнелонг, где занял должность старшего хирурга. В 2001–2002 годах получил звание профессора детской кардиохирургии, а в 2005 году был назначен заведующим отделением. Тогда наша команда была признана ведущей в мире по лечению транспозиции магистральных сосудов: мы провели более 2000 таких операций, из них более 1000 выполнил лично я.
Как сионист и еврей, я всегда мечтал репатриироваться в Израиль и служить своей стране. В 2013 году меня пригласили возглавить Международный центр лечения врожденных пороков сердца в больнице Тель-Ха-Шомер. После 10 лет работы там я перешёл в «Хадассу», клинику, расположенную рядом с моим домом. Сейчас я работаю здесь около трёх лет. За свою карьеру я провёл более 15 000 операций.
Последние годы я специализируюсь на неонатальной кардиохирургии — оперирую новорождённых с тотальным аномальным дренажем лёгочных вен, гипоплазией левых отделов сердца и другими сложными патологиями. Также мы регулярно проводим операции при таких пороках, как тетрада Фалло, атрезия лёгочной артерии, а также у пациентов с единственным желудочком сердца.
— Вы могли бы рассказать о самом запоминающемся случае за последние три года в Хадассе?
— Да, был один особенно трогательный и сложный случай. У новорождённого была выявлена фиброма сердца ещё во внутриутробном периоде. После рождения ребёнок семь месяцев находился в реанимации другой больницы без лечения, с трахеостомой и гастростомой. Семья обратилась ко мне с вопросом: возможно ли что-то предпринять.
Я посмотрел ЭхоКГ и визуализацию: правый желудочек был полностью замещён опухолью. Я честно предупредил родителей, что операция крайне рискованна, но другого выхода нет. У меня был определённый опыт в удалении подобных опухолей, но такого размера фиброму я никогда не оперировал.
Семья направила документы в Бостонскую детскую больницу, но оттуда пришёл отказ из-за слишком высокого риска. Тем не менее, родители не сдались и вернулись ко мне со словами: «Нам нечего терять. Пожалуйста, оперируйте».
Мы решились. Операция была долгой и очень сложной. Мы полностью удалили гигантскую опухоль, реконструировали правый желудочек и сохранили функцию трёхстворчатого клапана. Нам удалось отключить ребёнка от аппарата искусственного кровообращения без осложнений. Сердечная функция восстановилась, всё было в пределах нормы. Он долгое время оставался на трахеостоме, но в итоге восстановился и был выписан.
Недавно я был в другой больнице. В кабинет зашла женщина и спросила: «Вы меня помните?» Я ответил, что, к сожалению, не уверен. Она улыбнулась и сказала: «Я мама того самого мальчика. Вот он — без трахеостомы, ходит сам, абсолютно здоров». Это был очень трогательный момент.
— Какие техники сегодня применяются в отделении, и чем они отличаются от других клиник?
— Во многих клиниках мира кардиооперации проводятся в условиях гипотермии — то есть с искусственным снижением температуры тела пациента. Считается, что это позволяет защитить головной мозг, внутренние органы и другие системы организма от возможного повреждения во время остановки кровообращения. Проблема этой техники заключается в том, что она сопровождается рядом побочных эффектов — в частности, оказывает влияние на гемостаз, может осложнять восстановление после операции и вызывать воспалительные реакции в организме. Со временем мы разработали другой подход, принципиально отличающийся от традиционного.
И сейчас в 99,7% случаев, мы проводим операции на фоне нормотермического искусственного кровообращения — без охлаждения. Мы провели исследования и доказали, что при нормотермии сохраняется лучшая функция мозга, сердце работает лучше, восстановление проходит быстрее.
Хотел бы привести еще один пример: если посмотреть на операционные протоколы из разных клиник по всему миру, то при выполнении артериального переключения сосудов, практически везде фиксируется так называемое время пережатия аорты. Это период, когда сердце находится в остановке — на время операции. Обычно время пережатия аорты составляет от одного часа до полутора часов, то есть ишемия сердца длится примерно 90 минут. С помощью нашей техники мы исключили ненужные манипуляции, и нам удалось сократить это время до 30 минут. То есть: всего полчаса ишемии и один час искусственного кровообращения вместо трех часов. Таким образом, мы сокращаем ишемическое время, уменьшаем воспалительный ответ, связанный с использованием аппарата искусственного кровообращения, за счет сокращения продолжительности операции и применения нормотермии.
И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что послеоперационное восстановление у этих пациентов проходит очень легко.
— Также было бы интересно услышать о техническом оснащении клиники: с каким оборудованием вы обычно работаете? И еще — расскажите, пожалуйста, как организована командная работа в вашей операционной: насколько важна слаженность коллектива при проведении сложных хирургических вмешательств?
— Клиника Хадасса оснащена самым современным медицинским оборудованием.
Мы располагаем всем необходимым для проведения операций на открытом сердце, включая:
– специализированную команду кардиологических анестезиологов
– команду детских перфузиологов
– и профессиональную команду операционных медсестер
Моя хирургическая команда состоит из трех человек:
я — ведущий хирург, выполняющий большинство операций, и два ассистента.
Каждая операция проводится с участием одного или двух ассистентов — в зависимости от клинической ситуации.
Хотя мы не делаем трансплантацию, мы можем установить вспомогательное устройство и направить пациента в трансплантационный центр. Все вопросы, связанные с визуализацией и катетеризацией, решаются в тесном сотрудничестве с кардиологической командой. Мы действуем как единая мультидисциплинарная команда, обеспечивая полный диагностический и терапевтический контроль на всех этапах лечения.
В нашем распоряжении:
– Специалист по инвазивной кардиологии, выполняющий диагностическую и лечебную катетеризацию сердца.
– Отдельная команда кардиологов, специализирующихся на визуализации:
- МРТ сердца
- КТ
- Все виды эхокардиографии (трансторакальное, чреспищеводное и 3D-ЭХО)
— Могли бы Вы рассказать о результатах проводимых вами операций — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе?
— Краткосрочные результаты включают два ключевых показателя — летальность и заболеваемость.
– Летальность находится на крайне низком уровне — около 1% или даже ниже.
– При этом по ряду диагнозов показатели ещё более впечатляющие:
• Транспозиция магистральных сосудов — 100% выживаемость
• Тетрада Фалло — 100% выживаемость
• Атриовентрикулярные каналы — 90%
При восстановлении дефекта атриовентрикулярного канала уровень выживаемости составляет около 90–98%. Это ориентировочные показатели, которые, конечно, зависят от анатомической сложности порока и общего состояния пациента.
Мы выполняем хирургическую коррекцию при синдроме гипоплазии левых отделов сердца (HLHS) — в частности, операцию Норвуда, которая является первым этапом. При использовании модификации Сано (операция Норвуд–Сано) на первом этапе, выживаемость составляет около 90%. Разумеется, эти пациенты в дальнейшем нуждаются в повторных вмешательствах, особенно в случаях анатомии с единственным желудочком. Пациенты с единственным желудочком также демонстрируют хорошие клинические результаты в нашей практике.
Что касается долгосрочных результатов, то, например, пациенты после коррекции транспозиции магистральных сосудов могут жить, как и мы с вами. Тетрада Фалло — прогноз зависит от того, была ли выполнена трансаннулярная пластика или удалось сохранить клапан легочной артерии. В целом, долгосрочные результаты очень хорошие, и при необходимости в более зрелом возрасте мы можем имплантировать клапан легочной артерии катетерным способом.
Пациенты с AV-каналами — некоторые из них со временем возвращаются для коррекции митральной регургитации, но таких случаев немного. Мы также выполняем реконструкцию клапанов, в том числе пластику митрального клапана — это технически сложная операция, однако наши результаты очень хорошие. Хотя таких вмешательств пока не так много, все выполненные операции прошли успешно, и пациенты чувствуют себя хорошо.
Операция Росса, применяемая при аортальном и субаортальном стенозе, демонстрирует устойчиво отличные результаты, как в раннем послеоперационном периоде, так и в долгосрочной перспективе.
В целом, мы можем с полной уверенностью утверждать, что непосредственные результаты хирургического лечения — исключительно высокие, зачастую превосходящие даже самые оптимистичные ожидания.
Отдаленные результаты, в первую очередь, зависят от индивидуальной физиологии пациента, состояния миокарда и анатомических особенностей врождённого порока. В нашей клинике выполняются технически сложные реконструктивные вмешательства, включая двухжелудочковую коррекцию у пациентов со сложной анатомией, которым в других медицинских центрах, возможно, была бы предложена одножелудочковая коррекция или операция Фонтена. Тем не менее, мы отдаем приоритет двухжелудочковой коррекции, выполняя двойное переключение сосудов при транспозициях. У некоторых пациентов с двойным притоком левого желудочка мы выполняем поэтапную коррекцию перегородки. Разумеется, в ряде случаев это приводит к формированию так называемой полуторажелудочковой циркуляции.
В целом могу с уверенностью сказать (а я лично внимательно наблюдаю за пациентами в послеоперационном периоде): они чувствуют себя замечательно и ведут активную, полноценную жизнь.
 Россия:
Россия: Израиль:
Израиль: